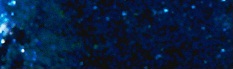"Христианство – искуснейшая выдумка иудеев, соблазнившая всемирное
плебейство с его обидами и страхами заявленной жалостью, милосердием,
обещанием бессмертия… Специфическое родство христианства тревожило Отцов
церкви (Иоанн Златоуст, "Против иудеев"); предпринимались попытки то
размежевать жестоковыйный "Закон" и милосердную "Благодать", то
установить удобоваримую взаимосвязь между ними. Самая мысль, крадучись
отверженными тропами мировой культуры, постоянно сопровождала
христианство, пока не обрела достаточного заряда для ослепительной
вспышки под пером Фридриха Ницше. "Христианство можно понять единственно
в связи с той почвой, на которой оно выросло, – оно не есть движение,
враждебное иудейскому инстинкту, оно есть его последовательное развитие,
силлогизм в его логической цепи, внушающей ужас".
Да, статья не для всех. Но и книга, о которой она рассказывает, не для обыдлившегося бесхребетного плебса.
Издательство "Терра" выпустило в свет роман Виталия Амутных "Русалия", и
сразу по прочтении трудно найти слова, которые позволили бы
прикоснуться к сущности книги. Но можно определённо утверждать, что
после прохановского "Господина Гексогена" ни одно из современных
произведений, написанных на русском языке, не производило впечатление
столь разительное.
Я читал ранние книги Амутных: "Дни на излёте безумия" и "Овское
царство" – в прилежном ученичестве невозможно было распознать грядущего
большого художника. Качественный скачок Амутных, мощный, никак не
чаянный, повергает в замешательство и затрудняет разбор книги. Мы имеем
случай, пожалуй, столь же непредвиденный, столь же необъяснимый, как,
скажем, появление поэмы Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки".
Всё ли исчерпывалось совершенствованием мастерства? Или
напряженнейшая внутренняя работа предшествовала рождению "Русалии"? Или
художественный дар развивается по неведомым законам, которые мы никогда
не постигнем?
Обратимся тогда к обстоятельствам, доступным нашему зрению.
"Русалия" – исторический роман, охватывающий обширную эпоху
Древней Руси. Действие начинается незадолго до гибели князя Игоря и
завершается победой над Хазарским кага- натом возмужавшего Святослава.
Редкий исторический роман представляет столь зримо обычаи,
бытовой уклад, нравственный закон и человеческие характеры, неизменные,
конечно, но с теми особыми "поправками", которые вносит в них та или
иная эпоха. Можно указать на богатейший язык романа, включающий
несметную россыпь славянизмов, но живой, органичный, лишённый каких бы
то ни было стилизаций. Можно указать на совершенство композиции… И
всё-таки это обстоятельства, призванные выткать лишь внешнюю оболочку
художественного произведения.
Какие усилия прилагают порой авторы, стремясь оживить своих
героев: тщательнейшим образом описывают поступки, рисуют красочные
портреты, конструируют многословные диалоги, – и не достигают искомого
результата. Перо Амутных обладает счастливым свойством: судьбы его
героев, обозначенные даже скупо, начинают жить в читательском сознании в
соответствии с внутренней логикой произведения. Человек, однажды
встреченный, заслонённый потом вереницей новых событий и образов,
никогда не забывается, – и судьба его через десятки страниц, через
долгие годы, если принять во внимание сжатость времени в историческом
произведении, не перестаёт волновать. Когда в очередной раз он возникает
в повествовании, воспринимаешь его как человека давно знакомого, чей
характер и душу сберегла память сердца.
Различнейшие чувства вызывают герои книги: восхищение и
брезгливость, сочувствие и злорадство, солидарность и презрение, –
никогда безразличие. "Русалия" – не расчётливая и находчивая
конструкция, а мир, воскрешённый через столетия художником безоглядным и
бескорыстным в своём расточительстве душевных и физических сил. (Как
критик, я не могу удержаться от сравнения: какие ничтожные, фальшивые
именно в силу энергосбережения исторические повествования поставляют на
книжный рынок Вл. Сорокин, Л.Юзефович, Б.Васильев, эти "скупые нищие
жизни".)
Тем не менее было бы противоречием сущности книги ограничиться
славословием её художественных достоинств, было бы непростительным
подлогом уклониться от рассмотрения её морально-исторической
составляющей. Пером Амутных движет в первую очередь моральная страсть.
Это коренным образом отличает его от тех многочисленных авторов, кто
обращается к истории ради поиска загадочных сюжетов, кто совершает
бегство в прошлое от беспощадных вызовов современности. Амутных
углубляется в прошлое, ни на минуту не забывая о настоящем, более того –
ради настоящего, чтобы проследить истоки, обнажить сегодняшнее
положение дел.
Вместе с княгиней Ольгой он отправляется в Константинополь.
Ольгу подтолкнули к этой поездке, используя её властолюбие,
ввели в заблуждение, будто отношения византийского императора
Константина и его супруги безнадежны и будто к ней, вдовой княгине
русов, Константин неравнодушен. Однако, сразу по прибытии умная, зоркая,
но мало склонная к лицемерию Ольга сталкивается с дипломатическими
каверзами, придворными интригами, прикровенным глумлением. В глубине
души негодуя и всё-таки надеясь на личную встречу с императором, она
терпеливо сносит унижения. Снисходительно-насмешливый приём уязвляет
русскую княгиню в самое сердце. Не исключено, что именно этот
смертельно-тяжёлый урок уберёг Русь от дальнейшего распространения секты
христопоборников, по крайней мере, даже если принять точку зрения о
личном крещении Ольги, то Святослава, сына-подростка, она отдала на
воспитание русскому волхву.
Для автора путь в Константинополь – это возможность самым
пристальным образом вглядеться в жизненный и духовный уклад визан-
тийцев, лукаво и настойчиво навязывающих свою веру Киеву. Всюду
поклонение Христу и – роскоши, ставшей фальшивым мерилом духовного
величия. Всюду лицедейство, прикровенная жестокость и открытое
угодничество – метастазы коварной, неизбывной моральной коррупции,
пронизавшие организм империи.
Знаток и ценитель античности, автор пытается разглядеть в
греках византийского периода ту удивительную гармонию духа и тела,
которая породила неповторимую культуру Древней Эллады. Но греки
выродились: тучными, преющими сделались их тела и столь же тяжёлым,
одышливым стал их дух. Чужая религия не обогатила души, а сделала
изворотливыми, склонными к самоинсценировке.
Вместе с императором, которого окружение обрекло на тайное
медленное убиение, от чего он не в силах уже защищаться, автор
отправляется в прославленный монастырь имени страстотерпца Афиногена.
Константин оказывается среди служителей религии, которой всегда
укрывался, избегая вмешательства даже там, где зло торжествовало,
надеется найти успокоение и оправдание своей клонящейся к закату жизни.
Но в монастыре царит та же лживая, льстивая атмосфера. Монахи присягают
аскезе, и, действительно, на столе постные яства, однако их обилие,
самое их приготовление обнаруживают такую изобретательность, такую
кулинарную изощрённость, что соблазнился бы и самый прихотливый
эпикуреец.
Монахи клянутся, что евангельское смирение – это последняя
истина, а возникает какое-либо подобие философического спора, за
благообразной полемикой то и дело брызжет желчь и нетерпимость, и никто,
особенно в присутствии императорской свиты, не уступит, не признает
свою неправоту. Но главное, как беспредметен диспут, как далек он от
искания истины – религиозной или какой бы то ни было, – и автор находит
для него уничтожающее определение: суемудрие.
Константину кажется, что он во сне, липком и нескончаемом…
Вдруг возгласы несогласия стихают, за столом устанавливается
подозрительное единение – и это заставляет василевса очнуться. Монахи
говорят о бывшем собрате, решившим служить богу не в благоустроенном
монастыре, опутанном человеческими страстями, а в далёком холодном
гроте, подобном укрывищу зверя. И будто в насмешку над "не суди, да не
судим будешь", единодушно упрекают его в гордыне, бесноватости,
отпадении от церкви, приводят в свою пользу изречения апостолов.
Константин, уже в объятиях мягкой, снисходительной смерти, кратко
задерживается на мысли, какие безбрежные возможности для фарисейства
таятся в Евангелии, сурово фарисейство осуждающем. Он желает добраться
до монаха-отшельника, его настойчиво отговаривают. Императору стоит
немалых усилий настоять на своём. Его дальнейшее восхождение и его
предсмертное, полуреальное-полуфантастическое общение с отшельником –
одна из лучших страниц в современной литературе.
Всё вышесказанное не должно ввести нас в заблуждение. Это лишь
эпизод книги, и "Русалия" ни в коей мере не исчерпывается полемикой с
христианством. Рискну утверждать, что, в сущности, этой полемики не
существует. Достаточно вспомнить имя Розанова, чтобы прояснить, о чём
идет речь. Как известно, он всю жизнь вёл острую, запальчивую тяжбу с
христианством, – и оказался незаметно втянутым в орбиту христианских
идей и образов. Можно обратиться к другим примерам: к литературе раннего
соцреализма. За внешним, подчас ожесточённым отвержением таилась
внутренняя христианская мотивация. Неслучайно возник в литературоведении
своеобразный термин "жития красных святых".
В "Комментариях" Георгия Адамовича среди прочих точных
наблюдений записано следующее: "У нас, в нашей культуре, да и вообще на
Западе, – есть только две большие темы: христианская и эллинская".
Но легко говорить об "эллинстве", трудно творить. Удивителен
факт, что через тысячу лет после "днепровской купели", после сотни
поколений, чей взор и слух (архитектура храмов, звон колоколов), и самое
сознание подвергались поистине тоталитарному воздействию, –
удивительно, что в русской среде возникают явления, вполне свободные от
увечий духовного плена. Амутных создаёт произведение, внутренний мир
которого не связан сомнительными ценностями.
Автор родился и живёт в Днепропетровске. И есть нечто
символичное в том, что на Днепре, где совершилось
безотчётно-насильственное крещение Руси, родилась иная весть – ясное и
уверенное убеждение в пагубности чужой веры, развенчание предательства
исконных святынь.
Христианство – искуснейшая выдумка иудеев, соблазнившая
всемирное плебейство с его обидами и страхами заявленной жалостью,
милосердием, обещанием бессмертия… Специфическое родство христианства
тревожило Отцов церкви (Иоанн Златоуст, "Против иудеев");
предпринимались попытки то размежевать жестоковыйный "Закон" и
милосердную "Благодать", то установить удобоваримую взаимосвязь между
ними. Самая мысль, крадучись отверженными тропами мировой культуры,
постоянно сопровождала христианство, пока не обрела достаточного заряда
для ослепительной вспышки под пером Фридриха Ницше. "Христианство можно
понять единственно в связи с той почвой, на которой оно выросло, – оно
не есть движение, враждебное иудейскому инстинкту, оно есть его
последовательное развитие, силлогизм в его логической цепи, внушающей
ужас".
Ницше, конечно, присутствует в романе, как присутствует он во
всей новой культуре мира. Словно стремительная ночная гроза, столь
многое осветившая во мраке, столь многое омывшая, так что отчётливее
сделались и дневные очертания, изменившая самый состав атмосферы. Но
подчеркнём важнейшее обстоятельство: не будь в истории мира Ницше, эта
книга, пожалуй, оказалась бы слабее, но и только. Её рождение, как
рождение органического явления, неизбежное, помимо pro et contra
человеческой воли. Всё, что отрицают христопоклонники, – здоровье,
удачливость, физическую красоту и силу, гордость, военную доблесть,
чувство власти, – всё находит ликующее торжество на страницах романа в
образе Святослава и его воинства.
Это дивные страницы романа – яростный светлый мир, слишком
благородный, чтобы распознать в полной мере опасность надвигающейся
эпидемии, принесшей морально-психический слом народной души.
Воцарение христианства помимо прочих многочисленных подлогов
породило ещё и величайшую ложь о так называемом "язычестве". Автор
делает на этот счёт едкое и умное замечание: "Язычество… это клеймо
выдумали глобалисты своего времени".
Русские боги оболганы, память затоптана, в лучшем случае они
кажутся нам персонажами из какой-то далёкой сказки. О духовной,
ведической религии предков мы знаем лишь понаслышке. Амутных включает в
роман обширнейшую картину религиозно-духовных представлений,
существовавших среди славян, решаясь воскресить Рода, Перуна, Велеса.
Вслушиваясь в многочисленные заклинания и молитвы, чувствуешь огромную
поэтическую силу, задевают описания обрядов, в частности, погребального
обряда воинов, павших на поле битвы. Конечно, веру, желанную Амутных,
над этими страницами не обретаешь, но душа, вместившая в себя всё, что
"чудь начудила, да меря намеряла", запеленутая во мглу христианства,
всё-таки отзывается какой-то неясной родственной дрожью.
Отдельного слова заслуживает описание Амутных Итиля,
вонзившегося в поистине неразумных хазар, как клещ, парализовавший их
волю. Под хитроумным управлением иудейской верхушки, питающей себя не
только золотом купцов, но прежде всего жизненными соками основного
этноса (об этом без обиняков писал, в частности, в "Зигзаге истории"
талантливейший и пристрастный историк Лев Гумилёв, сын расстрелянного
поэта, оказавшегося неуместным при зарождении нового каганата).
Итиль преисполнен роскоши и всё равно ненасытен в ней, пронизан
изощрённой и всё равно неутолимой похотью. Ещё прежде, чем Святослав
возносит над Итилем карающий меч, Амутных обрушивается на город-паразит
всей мощью своего художественного таланта – с глумом почти гоголевским, с
собственным обостренным психологизмом.
У Амутных редкое качество вести свою мысль к последним выводам, не останавливаясь в нерешительности.
Отвергающий христианство, уязвлённый рабовладельческой,
тоталитарной сущностью иудейского каганата, автор ставит под сомнение
общепринятое представление о богоизбранности евреев. И здесь
обнаруживается его великолепное знание Библии, ибо никакой другой
источник не содержит столько разоблачительных замечаний о евреях, как их
собственный эпос.
На первый взгляд, бесстрашие Амутных может показаться наивным:
бороться с мифом, взращённым гордыней и расчётом, не имевших аналогов в
мировой истории, тысячелетиями лукаво и ожесточённо оберегаемым. Но
разве существуют области, запретные для художественной воли?
Помимо религиозного аспекта, я думаю, здесь имеет место
столкновение различных типов психо-физиологического восприятия жизни:
еврейского – плотоядного, чувственного, и славянского –
идеалистического, мечтательного. Из этого столкновения, из этого
неприятия одного жизненного стиля другим и проистекает тот длительный
конфликт в отечественной литературе, который никогда не разрешится к
взаимному удовольствию. Помимо различий в эстетике, помимо серьёзных
отличий в этических оценках тяжба идёт за подчинение русского слова
одному из двух несовместимых мировосприятий, и, кажется, обе стороны не
склонны строить иллюзий насчёт примирения.
В подзаголовке к рецензии я сказал об "историческом романе как
энциклопедии современной жизни". В кроваво-жирном Итиле, в описаниях
бесчеловечных механизмов его обогащения разве не вспомнит читатель о
"Черкизоне" и о "городе золотых унитазов" в целом? Дотошно воссозданная
атмосфера сребролюбия и уюта, одерживающая верх над воинской доблестью,
личной отвагой, честью, т.е. в конечном счёте над сущностью
аристократических ценностей, – разве не почувствует читатель родство той
эпохи эпохе нынешней?
Ни одной книге в истории человечества не удалось встать вровень
с жизнью, никакому искусству не дано отразить жизнь во всей её полноте.
Но возникают изредка такие счастливые исключения, когда книга по
многообразию и естественности как бы максимально уподобляется жизни, и
тогда в произведении свободно и органично уживаются
хладнокровно-эпическое повествование и язвительная сатира, перо
кристаллизует знания о высшем, духовном, и по головокружительной
траектории возвращается к злободневности, к тому, что мучит и забавляет,
по слову Блока.
Такова "Русалия" Амутных, воистину roman-fleuve. И это всего
толика открытий, намёков, заблуждений, загадок, которые таятся в этом
глубоком, неохватном, как Днепр, романе, – одном из редких, чудесных
явлений русской словесности.