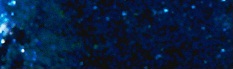Александр Семёнович ШИШКОВ
Александр Семёнович ШИШКОВ, выдающийся государственный и общественный
деятель ХIХ столетия, адмирал и госсекретарь, верой и правдой служивший
четырём царям, министр просвещения и Президент Российской Академии
наук. Он является автором бесценных трудов, значимость которых
по-настоящему не осознана до сих пор. Один из них – "Славянорусский
корнеслов”, о нравственном потенциале русского языка. Главы из этой
книги мы сегодня публикуем.
Речь, произнесенная Президентом Российской Академии наук в торжественном годичном собрании НАШ ЯЗЫК – ДРЕВО, ПОРОДИВШЕЕ ОТРАСЛИ НАРЕЧИЙ ИНЫХ
Да умножится, да возрастёт усердие к русскому слову и в делателях, и в слушателях!
Я почитаю язык наш столь древним, что источники его теряются во мраке
времен; столь в звуках своих верным подражателем природы, что, кажется,
она сама его составляла; столь изобильным в раздроблении мыслей на
множество самых тонких отличий, и вместе столь важным и простым, что
каждое говорящее им лицо может особыми, приличными званию своему словами
объясняться; столь вместе громким и нежным, что каждая труба и свирель,
одна для возбуждения, другая для умиления сердец, могут находить в нем
пристойные для себя звуки.
И наконец, столь правильным, что наблюдательный ум часто видит в нём
непрерывную цепь понятий, одно от другого рождённых, так что по сей цепи
может восходить от последнего до первоначального её, весьма отдаленного
звена.
Преимущество этой правильности, непрерывного течения мыслей, видимого в
словах, так велико, что ежели бы внимательные и трудолюбивые умы
открыли, объяснили первые источники столь широко разлившегося моря, то
знание всех вообще языков озарилось бы светом доселе непроницаемым.
Светом, освещающим в каждом слове первообразную, произведшую его мысль;
светом, разгоняющим мрак ложного заключения, будто бы слова, сии
выражения наших мыслей, получили значение своё от произвольного к пустым
звукам их прицепления понятий.
Кто даст себе труд войти в неизмеримую глубину языка нашего, и каждое
его слово отнесет к началу, от которого оно проистекает, тот, чем далее
пойдет, тем больше находить будет ясных и несомнительных тому
доказательств. Ни один язык, особливо из новейших и европейских, не
может в сем преимуществе равняться с нашим. Иностранным
словотолкователям, для отыскания первоначальной мысли в употребляемых
ими словах, следует прибегать к нашему языку: в нем ключ к объяснению и
разрешению многих сомнений, который тщетно в языках своих искать будут.
Мы сами, во многих употребляемых нами словах, почитаемых за иностранные,
увидели бы, что они только по окончанию чужеязычные, а по корню наши
собственные.
Глубокое, хотя и весьма трудное исследование языка нашего во всем его
пространстве принесло бы великую пользу не только нам, но и всем
чужестранцам, пекущимся достигнуть ясности в наречиях своих, часто
покрытых непроницаемым для них мраком. При отыскании в нашем языке
первоначальных понятий этот мрак и у них бы исчез и рассеялся. Ибо не
надлежит слово человеческое почитать произвольным каждого народа
изобретением, но общим от начала рода текущим источником, достигшим чрез
слух и память от первейших предков до последнейших потомков.
Как род человеческий от начала своего течет подобно реке, так и язык с
ним вместе. Народы размножились, рассеялись, и во многом лицами,
одеждою, нравами, обычаями изменились; и языки тоже. Но люди не престали
быть одним и тем же родом человеческим, равно как и язык, не
престававший течь с людьми, не престал, при всех своих изменениях, быть
образом одного и того же языка.
Возьмем одно только слово отец на всех по земному шару рассеянных
наречиях. Мы увидим, что оно при всей своей разности, не есть особое,
каждым народом изобретенное, но одно и то же всеми повторяемое.
Вывод сей требует великих и долговременных упражнений, разыскания
множества слов, но устрашаться трудов, ведущих к открытию света в
знаках, выражающих наши мысли, есть неосновательная боязнь, любящая
больше мрак, нежели просвещение.
Наука языка, или лучше сказать, наука слов, составляющих язык, заключает
все отрасли мыслей человеческих, от начала их порождения до
бесконечного, всегда, однако ж, умом предводимого распространения. Такая
наука должна быть первейшею, достойной человека; ибо без неё не может
он знать причин, по которым восходил от понятия к понятию, не может
знать источника, из которого текут его мысли.
Ежели при воспитании юноши требуется, чтобы он знал, из чего сделано
платье, которое он носит; шляпа, которую надевает на голову; сыр,
который употребляет в пищу; то как же не должно знать, откуда происходит
слово, которое он говорит?
Нельзя не удивляться, что наука красноречия, изящная ума человеческого
забава и увеселение, во все времена приводилась в правила и процветала.
Между тем как основание её, наука языка, оставалась всегда в темноте и
безвестности. Никто, или весьма немногие дерзали входить в её
таинственные вертепы, и то, можно сказать, не проницали далее первых при
вратах её пределов.
Причины сему очевидны и преодолеть их нелегко.
- Новейшие языки, заступившие место древних, потеряв первобытные слова и
употребляя только их отрасли, не могут более быть верными
путеводителями к своим началам.
- Все древние языки, кроме славенского, сделались мёртвыми, или мало
известными, и хотя новейшие ученые мужи и стараются приобретать в них
познания, но число их мало, и сведения в чуждом языке не могут быть
столь обширны.
- Из глубины древности струящиеся протоки часто, прерываясь, теряют след
свой, и для его отыскания требу ют великих усилий ума и соображения.
- Надежда к совершению сего труда с должным рачением не может льстить
человеку потому, что век его краток и ожидаемые плоды не иначе могут
созреть, как долговременным упражнением многих учёных людей.
- Наука языка, хотя и тесно сопряжена с наукою красноречия или вообще
словесностью, однако весьма с ней различна. Первая вникает в
происхождение слов, ищет соединения одного понятия с другим, дабы на
точных и ясных началах основать грамматические правила и составить
словопроизводный словарь, единственный, показующий язык во всем его
порядке и устройстве. Вторая довольствуется только утверждёнными навыком
словами, стараясь сочинять их приятным для ума и слуха образом, без
всякой заботы о первоначальном их смысле и происхождении.
Первая ищет себе света в наречиях всех веков и народов; вторая не простирает изысканий своих далее настоящего времени.
Стихотворство приучает разум блистать, греметь, искать вымыслов,
украшений. Напротив, ум, упражняющийся в исследовании языка, ищет в нем
ясности, верных признаков, доказательств к открытию сокровенных его
начал, всегда теряющихся во мраке изменений, но без отыскания которых
перестаёт он быть плодом одаренных разумом существ, текущей издревле
мыслей их рекою.
Язык при чистоте и правильности своей получит силу и нежность. Суд о
достоинстве сочинений будет суд ума и знаний, а не толк невежества или
яд злословия. Язык наш превосходен, богат, громок, силён, глубокомыслен.
Надлежит только познать цену ему, вникнуть в состав и силу слов, и
тогда удостоверимся, что не его другие языки, но он их просвещать может.
Сей древний, первородный язык остается всегда воспитателем, наставником
того скудного, которому сообщил он корни свои для разведения из них
нового сада.
С нашим языком, вникая в него глубже, можем мы, без заимствования корней
у других, насаждать и разводить великолепнейшие вертограды.
Излиянные на Российскую академию монаршие щедроты подают надежду, что со
временем успехи трудолюбивых умов, руководимых светлостию рассудка,
откроют богатые языка нашего источники, снимут с алмаза сего еще во
многих местах покрывающую его кору, и покажут в полном блистании свету.
ХОЧЕШЬ ПОГУБИТЬ НАРОД, ИСТРЕБИ ЕГО ЯЗЫК
Взойдем на высокую башню; снимем кровли с домов и посмотрим, что в них
происходит. С чего начать? С воспитания. Есть ли хоть один, кроме самых
бедных, в котором бы детей наших воспитывали не французы? Сие
обыкновение так возросло и усилилось, что уже надо быть героем, дабы
победить предрассудок и не последовать общему течению вещей! Попытайтесь
сказать, что языку нашему, наукам, художествам, ремеслам и даже нравам
наносит вред принятое по несчастию всеми правило.
Сердитые и безрассудные выцарапают вам глаза. Те, которые помягче и
поумнее, станут вам доказывать: "Не пустое ли ты говоришь? Когда же
лучше обучаться иностранному языку, как не в самом ребячестве? Дитя
играючи научится сперва говорить, потом читать, потом писать, и как
французский язык необходимо нужен (заметьте это выражение), напоследок
будет писать так складно, как бы родился в Париже”. В этой-то самой
мысли и заключается владычество его над нами и наше рабство.
Для чего истинное просвещение и разум велят обучаться иностранным
языкам? Для того, чтоб приобресть познания. Но тогда все языки нужны. На
греческом писали Платоны, Гомеры, Демосфены; на латинском Виргинии,
Цицероны, Горации; на итальянском Данты, Петрарки; на английском
Мильтоны, Шекспиры.
Для чего ж без этих языков можем мы быть, а французский нам необходимо
нужен? Ясно, что мы не о пользе языков думаем: иначе за что нам все
другие и даже свой собственный так уничижать пред французским, что их мы
едва разумеем, а по-французски, ежели не так на нем говорим, как
природные французы, стыдимся на свет показаться?
Стало быть, мы не по разуму и не для пользы обучаемся ему; что ж это иное, как не рабство?
Скажут: да он потому необходимо нужен, что сделался общим, и во всей
Европе употребительным. Я сожалею о Европе, но еще более сожалею о
России. Для того-то, может быть, Европа и пьет горькую чашу, что прежде
нежели оружием французским, побеждена уже была языком их. Прочитайте
пере веденную с французского книгу "Тайная История нового французского
двора”: там описывается, как министры их, обедая у принца своего
Людвига, рассуждали о способах искоренить Англию. Всеобщее употребление
французского языка, говорил один из них, Порталис, служит первым
основанием всех связей, которые Франция имеет в Европе. Сделайте, чтоб в
Англии также говорили по-французски, как в других краях. Старайтесь,
продолжал он, истребить в государстве язык народный, а потом уже и сам
народ. Пусть молодые англичане тотчас посланы будут во Францию и обучены
одному французскому языку; чтоб они не говорили иначе, как
по-французски, дома и в обществе, в семействе и в гостях: чтоб все
указы, донесения, решения и договоры писаны были на французском языке – и
тогда Англия будет нашею рабою.
Вот рассуждение одного из их государственных мужей, и оно весьма
справедливо. Если б Фридрихи вторые не презирали собственного языка
своего; ежели б всякая держава сохраняла свою народную гордость, то
французская революция была бы только в углу своём страшна. Мнимые их
философы не вскружили бы столько голов, французы не шагали бы из царства
в царство.
От чего сие, как не от общего языка их разлияния, подчинившего умы наши их умам?
Но оставим другие европейские земли и возвратимся к своему Отечеству. Благодаря святой вере Россия еще не такова.
Однако французский язык предпочитают у нас всем другим, не для
почерпания из него познаний, но для того, чтоб на нём болтать. Какие же
из того рождаются следствия? Тому, кто грамматику природного своего
языка хорошо знает, не много времени потребно обучиться читать на
иностранном языке. Напротив, чтоб говорить им как своим природным, нужно
от самого младенчества беспрестанно им заниматься. Это воспрепятствует
вам знать собственный язык ваш, разумеется, не тот, которому научились
вы на улице, но тот, каким в священных храмах проповедуется слово Божие,
и какой находим мы в книгах от Нестора до Ломоносова, от Игоревой песни
до Державина. Сие отведёт вас от многих касающихся до России сведений.
Вы, может быть, много лишнего узнаете о французских почтовых домах и о
парижских театрах, гуляньях и переулках, но много весьма нужного не
будете знать о своём Отечестве. Вы всем этим пожертвуете для чистого
произношения французского языка.
Посмотрите: маленький сын ваш, чтоб лучше и скорее научиться, иначе не
говорит, как со всеми и везде по-французски: с учителем, с вами, с
матушкою, с братцем, с сестрицею, с мадамою, с гостями, дома, на улице, в
карете, за столом, во время играния, учения и ложась спать.
Не знаю, на каком языке молится он Богу, может быть, ни на каком. Начав
от четырех или пяти лет быть на руках у французов, он приучает язык свой
к чистому выговору их речей, слух свой к искусству составления их
выражений, и ум свой ко звуку и смыслу их слов. Не думаете ли вы, что
привычка, а особливо от самых юных лет начавшаяся, не имеет никакой
власти над нашим сердцем, разумом, вкусом и душою?
На десятом году он уже наизусть читает Расиновы и Корнелиевы стихи, но
еще ни одного русского писателя не читал, Псалтири, Нестора, Четьи-минеи
и в глаза не видал. На тринадцатом году он уже начинает спорить с
учителем своим, кто из них наскажет больше приятных слов торговкам
модных вещей и актрисам. Между пятнадцатым и осьмнадцатым годом он уже
глубокий философ. Рассуждает о просвещении, которое, по мнению его, не в
том состоит, чтоб земледелец умел пахать, судья судить, купец
торговать, сапожник шить сапоги. Нет, но в том, чтоб все они умели
причесываться, одеваться и читать по-французски прозу и стихи. О
бессмертии души он никогда не думает, а верит бессмертию тела, потому
что здоров и ест против десятерых. Часто судит о нравственных вещах, и
больше всего превозносит вольность, которая, по его понятиям, в том
состоит, чтоб не считать ничего священным, не повиноваться ничему, кроме
страстей своих. На двадцатом или двадцать пятом году он по смерти вашей
делается наследником вашего имения.
О, если б вы лет чрез десяток могли встать из гроба и посмотреть на
него! Вы бы увидели, что он добываемое из земли с пролиянием пота
десятью тысячами рук богатство расточает двум-трём или пяти обманывающим
его иностранцам. Вы бы увидели у него огромную библиотеку всякого рода
французских книг, украшенную богатыми портретами Гельвециев и Дидеротов.
А ваш и супруги вашей портрет, не прогневайтесь, вынесен на чердак, и
приносится только, когда надобно посмеяться, как вы одеты были странно.
Вы бы узнали, что он не только на могиле вашей никогда не был, но и в
церкви, где вы похоронены, или лучше сказать, ни в какой. Вы бы увидели,
что он над бабушкой своею, чуть дышащею, хохочет и говорит ей: "Лукерья
Федоровна, скажи что-нибудь про старину”. Вы бы увидели, что он не
способен быть ни воином, ни судьею, ни другом, ни мужем, ни отцом, ни
хозяином, ни гостем. Вы бы увидели…
После всего этого утешило бы вас то, что он хорошо, красно и свободно говорит по-французски?
Привычка и господствующее мнение так сильны, в такую берут человека
неволю, что он против убеждений разума своего, насильно, как бы
магнитом, втягивается в вихрь общего предрассудка.
Помножим тем, что чужеземные ваши воспитатели, наставники, приятели,
искусники беспрестанными своими изобретениями, хитростями, выдумками все
сие в нас питают, поддерживают, подкрепляют.
Между тем, они ведут нас не к славе, но совсем в противную сторону. Мы
можем о том, куда они нас ведут, заключить из того, до чего они нас
довели.
Славянский древний, коренный, важный, великолепный язык наш, на котором
преданы нам нравы, дела и законы наших предков, на котором основана
церковная служба, вера и проповедание слова Божиего, сей язык оставлен,
презрен.
Что ж из этого выходит? Феофановы, Георгиевы проповеди, которым
надлежало бы остаться бессмертными, греметь в позднейшем потомстве и
быть училищами русского красноречия, подобно, как у греков и римлян были
Демосфена и Цицерона слова, – эти проповеди не только не имели многих и
богатых изданий, как то в других землях с меньшими их писателя ми
делается.
Сколько человек в России читают Вольтера, Корне лия, Расина? Миллион или
около того. А сколько чело век читают Ломоносова, Кантемира,
Сумарокова? Первого читают еще человек тысяча-другая, а последних двух
вряд и сотню наберешь ли.
Возникнет ли там писатель, где тщательных и долголетних трудов никто не
читает? Нет! Там ни в ком не родится мысль предпринять нечто твердое,
важное. Там не найдем мы трудолюбивых людей, которые прежде, чем работу
свою окончат, тысячу других о том писателей прочитают, лучшее из них
почерпнут, и собственный искус свой с их рассуждениями согласят. Будут
только показываться временные охотники писать, мелкие сочинения которых
не требуют ни упражнений в науках, ни знаний в языке. О них можно стихом
Сумарокова сказать, что они "Когда рождаются, тогда и умирают”.
При таких обстоятельствах язык наш все более будет погребаться в
забвении, словесность портиться и упадать. Но без языка и словесности
могут ли распространяться науки? Может ли быть просвещение? Могут ли
процветать даже художества и рукоделия? Нет! Без языка науки невнятны,
законы мрачны, художества нелепы, рукоделия грубы, и одним словом: все
без вида, без образа, без души. Язык и словеность нужны не для одних
наук, законов и художеств. Всякое ремесло, рукоделие и промысл их же
светом освещаются, от них заимствуют свое совершенство.
Свой язык упадает, потому что предпочитается ему чужой. С падением языка
родного молчит изобретение, не растут ни в каких родах искусства. Между
тем чужие народы пользуются этим и не перестают различными средствами
отвращать наше внимание от самих себя и обращать его на их хитрости.
Сто лет тому назад начали мы учиться у иностранцев. Что ж, велики ли
наши успехи? Какие плоды от них собрали? Может быть, скажут: расширение
земель, победы, завоевания! Но этому не они нас обучили. Без природной
храбрости и любви к Отечеству нам бы не одержать Полтавскую победу. Нет!
Это не их наставления плоды. В этом они скорее разучить, нежели бы на
учить нас хотели, если б могли. Я думаю, дорого бы дали они, чтоб у
солдат наших была не православная душа, не русское сердце, не медная
грудь.
Сто лет не один год. Пора бы уже в такое долгое время и самим нам
сделаться искусными. Но между тем воспитывают и всему обучают нас
иностранцы. Дома наши, храмы, здания строят они же; одевают и обувают
нас, жен наших, сыновей и дочерей они же. Без них не умели бы мы ни
занавесок развесить, ни стульев расставить, ни чепчика, ни кафтана, ни
сапог на себя надеть. Детей наших стоять прямо, кланяться, танцевать,
верхом ездить, смотреть в лорнет обучают они же. Оркестрами и театрами
увеселяют нас они же. По крайней мере, кушанья на кухнях наших готовят
нам русские повара? Нет, и то делают они же!
Разве природа одарила иноземцев превосходнейшим умом и способностями?
Разве она им мать, а нам мачеха? Кто это подумает! Тот разве, кто не
знает русского народа, смекалистого, на все способного.
Где чужой язык употребляется предпочтительнее своего, где чужие книги
читаются более, нежели свои, там при безмолвии словесности все вянет.
Когда мы на один из двух садов устремим свое внимание, тогда и ум, и
слух, и зрение, и вкус прилепляются к нему, от чего другой будет
претерпевать. Потерпите, не переставайте насаждать, подчищать,
разводить, умножать хорошее, истреблять худое: вы увидите, что он со
временем раскинется и будет великолепен.
Народ то же, что сад. Не отвращай взора от его произведений; полюби
сперва несовершенство их, предпочти свое чужому, посели в него
честолюбие, возроди ревность, возбуди в нем уважение к самому себе.
Тогда природное дарование найдет себе пишу, начнет расти, возвышаться,
делаться искуснее и наконец достигнет совершенства. Но покуда не
возникнет в нас народная гордость, собственные свои достоинства любящая,
до тех пор мы будем только смотреть, как делают иностранцы. Свой ум
останется бездействен, дух непредприимчив, око непрозорливо, руки
неискусны.
Иноземцы часто жалуют нас именами des barbares (варвары), des esclaves (рабы).
Они врут, но мы подаем им к тому повод. Может ли тот иметь ко мне
уважение, кто меня учит, одевает, убирает, или лучше сказать, обирает, и
без чьего руководства не могу ступить я шагу?
Свергнув иго чуждого языка и воспитания, нужно сказать им: "Как? Мы,
варвары, век свой славимся нравами и оружием; а вы, не варвары, ужасами
революции своей отняли славу у самого ада. Как? Мы, эсклавы, повинуемся
Богом избранной верховной власти; а вы, не эсклавы, после адской
вольности, воздвигшей убийственные руки ваши на стариков и младенцев,
наконец ползаете, когда палкой принудили вас повиноваться! Как? Мы,
непросвещенные, почитаем веру, единственный источник добродетелей,
единственную узду страстей, а вы, просвещенные, попрали её и самое бытие
Бога, не по чудесам созданного им мира, но по определениям
Робеспьеровым! Как? Мы, имея коренный, древний, богатый язык, станем
предпочитать ему ваше скудное, из разных языков составленное наречие!”
Так должно отвечать, а не думать: "Где нам за вами гоняться! У вас и
мужики говорят по-французски! Вы умеете и чепчики делать, и на головы
накалывать, и цветы к цветам прибирать. Ради самого Парижа, не
отступайте от нас! Будьте всегда нашими учителями, наряжателями,
обувателями, потешниками, даже и тогда, когда соотечественники ваши идут
нас жечь и губить!”
Если мнение наше о них всегда будет такое, тогда отложим попечение о
собственных науках, художествах, ремеслах. Станем припасать золото и
платить им за всё то, чего сами сделать не умеем. Мы не наживём славы,
но зато проживем деньги.
В Мой Мир
Обсудить на нашем форуме
 |