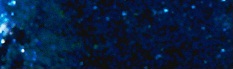А.ГОРЯНИН,»Мифы о России и дух нации»- отрывки из книги.
Россия — сильная и смелая страна. И удивительно везучая. Мы должны
избавиться от привычного, как привычный вывих, Большого Негативного Мифа
о России. Этот миф возник не вчера. Он вылупился из змеиного яйца лет
250 назад, его разрабатывали многие могучие умы (вроде Смердякова из
«Братьев Карамазовых»). Львиную долю негативной мифологии добавила
советская власть, чья идеология строилась на очернении исторической
России. «Все, кому только не лень, били отсталую царскую Россию», —
важно говорил тов. Сталин, и восторженным слушателям не приходил в
голову вопрос: а как же она заняла шестую часть суши, отсталая и всеми
битая?
Миф о многотерпеливости
Сама возможность существования мифа о терпении и покорности русского
народа — вещь довольно странная. Спросим у себя хотя бы следующее: чего
ради коммунисты создали такую беспримерно мощную карательную машину,
такую неслыханную в мировой истории тайную политическую полицию и с их
помощью умертвили десятки миллионов своих же сограждан? Приходится
признать: сила карательного действия вполне адекватно отразила силу и
потенциал противодействия. Россия — едва ли не мировой чемпион по части
народных восстаний, крестьянских войн и городских бунтов.
Непокорность отличала не только низы общества, но и его верхи. По
удачному выражению ветерана Радио «Свобода» Фатимы Салказановой, «списки
сибирских ссыльных за последние два века доказывают, что российское
общество всегда противостояло авторитарной власти» (Русская мысль,
6.11.97). Когда же наш предок видел, что плетью обуха не перешибешь, а
впереди ничто не маячило и не манило, он уезжал, убегал искать счастья в
другом месте.
Кстати, именно эта черта русского характера сделала возможным
заселение исполинских пространств Евразии. Как писал историк
Л.Сокольский («Рост среднего сословия в России», Одесса, 1907), «бегство
народа от государственной власти составляло все содержание народной
истории России». Будь русский народ терпеливым и покорным, наша страна
осталась бы в границах Ивана Калиты и, возможно, развивалась бы не по
экстенсивному, а по интенсивному пути. В школьные учебники истории
как-то не попал тот факт, что земли на Севере, Северо-Востоке, за
Волгой, за Камой, к югу от «засечных линий» — короче, все бессчетные
«украины» по периферии Руси — заселялись вопреки противодействию
московской власти, самовольно. В 1683 дело дошло до царского указа об
учреждении «крепких застав» против переселенцев, но и эта мера оказалась
тщетной. Государство шло вслед за народом, всякий раз признавая
свершившийся факт. «Воеводы вместо того, чтобы разорять самовольные
поселения, накладывали на них государственные подати и оставляли их
спокойно обрабатывать землю» (А.Дуров, «Краткий очерк колонизации
Сибири», Томск, 1891).
Восстания и крестьянские войны имели место, конечно, и в Европе, но в
целом народы стиснутых своей географией стран проявили за последнюю
тысячу лет неизмеримо больше долготерпения, послушания и благоразумия,
чем мы. Они научились ждать и надеяться, класть пфениг к пфенигу,
унавоживать малые клочки земли и выживать в чудовищных по тесноте
городах. Они стерпели побольше нашего — стерпели огораживания, «кровавые
законы», кромвелевский геноцид, истребление гугенотов, гекатомбы
Тридцатилетней войны, они вырыли еще до всех механизаций почти пять
тысяч километров (это не опечатка!) французских каналов и вытесали в
каменоломнях баснословное количество камня ради возведения тысяч замков,
дворцов и монастырей для своих господ, светских и духовных. Они и
сегодня не идут на красный свет даже когда улица пуста.
Именно в европейской истории мы сталкиваемся с примерами
«труднообъяснимого» (как выражается г-н Грачев) смирения и покорности.
Труднообъяснимого именно с русской точки зрения. Особенно поразил меня,
помню, один английский пример — и не из «темных веков», не из времен
первых «огораживаний», а из XIX века. Герцогиня Элизабет Сазерленд
(Sutherland) вместе со своим муженьком, маркизом Стаффордом, добившись
прав практически на все графство Сазерленд площадью 5,3 тыс. кв. км,
изгнала оттуда (около 1820 года) три тысячи многодетных семейств, живших
там с незапамятных времен. И эти люди покорно ушли!»
«Вопрос об эндемичности либерализма нуждается в новом рассмотрении»
Второй почти общепринятый, почти не обсуждаемый постулат гласит: в
России никогда не знали прав и свобод человека, независимой печати,
независимого суда. В 1834 в Париже произошло выступление, не слишком
мощное, республиканцев против Луи Филиппа. У дома 12 по улице Транснонен
был ранен офицер, и в наказание все жители дома, включая женщин и детей
были зверски убиты. (Многие вспомнят литографию французского художника
О.Домье, отразившую эту бойню.) В России 1834 года такое, согласимся,
было совершенно невозможно.
В 1858, после покушения на Наполеона III, во Франции был принят закон
«О подозрительных» (известный еще как «Закон Эспинаса»). Париж и
крупные города очистили от лиц, имевших несчастье не понравиться
полиции. На места была спущена разнарядка раскрыть в каждом из 90
департаментов заговоры с числом участников не менее 10, замешав в них
всех заметных недоброжелателей монархии. «Заговорщиков» без суда
отправили в Кайенну и иные гиблые места. Возможность защиты или
обжалования исключалась. Европа отнеслась с пониманием: как-никак, это
было уже третье покушение на Наполеона III. В России 1858 года подобное
также было бы совершенно невозможно. Стало, правда, возможно в
ленинско-сталинском СССР.
Следует ли отсюда, что в России тогда царила терпимость, а в Европе —
тирания? Нет. Следует лишь то, что нынешнюю европейскую модель
демократии, уважения личности и гарантий от произвола нельзя
проецировать даже в прошлый век (простите, уже в позапрошлый), а тем
более считать ее, как Ю.Гусман, тысячелетней. Данная модель сложилась
буквально в последние десятилетия. Уже с трудом верится, что еще
сравнительно недавно, 8 февраля 1962, в Париже был возможен «Кровавый
четверг» — совершенно чудовищный расстрел (никаких резиновых пуль!)
мирной уличной демонстрации. Отдадим прогрессу должное: сегодня, 39 лет
спустя, такое в Париже уже кажется немыслимым.
Одним из шагов России к правовому государству стало появление в ней в
1864 суда присяжных (для сравнения: в Германии — в 1848, Италии — в
1865, Австрии — в 1866, Испании — в 1887. Полную, и даже чрезмерную,
независимость русского суда явил миру в 1878 приговор по делу
террористки Веры Засулич, ранившей петербургского градоначальника. Она
была оправдана.
Процитирую польского эмигрантского публициста Юзефа Мацкевича. Он
характеризует старую Россию времен своей юности как либеральное
государство, поясняя: «демократия — это еще не свобода, это пока только
равенство. Свобода — это либерализм… Нельзя сказать, чтобы царская
Россия была государством, основанным на общественной несправедливости.
Справедливости можно было добиться иногда скорее, чем в какой-нибудь
сегодняшней демократии».
А Русь XV века была, по характеристике А. Янова (знатока этого
периода), «европейским и либеральным государством, едва ли не самым
политически прогрессивным в тогдашней Европе… превратилась в один из
важнейших центров мировой торговли».
В какую сторону бежали люди?
Либеральная школа (на самом деле радикальная) сумела внушить слишком
многим, что история у нас жуткая и что Россия это такое место, где
всегда было плохо. Ой ли? Понять, хорошо или плохо было в данной стране,
довольно просто. Надо выяснить, стремились в нее люди или нет. И что
же? В Россию, а до того — в русские княжества, стремились всегда.
Родословные пестрят записями вроде: «Огаревы — русский дворянский род,
от мурзы Кутлу-Мамета, выехавшего в 1241 году из Орды к Александру
Невскому»; «Челищевы — от Вильгельма (правнука курфюрста Люнебургского),
прибывшего на Русь в 1237 году»; «Хвостовы — от маркграфа Бассавола из
Пруссии, выехавшего в 1267 г. к великому князю московскому Даниилу»;
«Мячковы — от Олбуга, «сродника Тевризского царя», выехавшего к Дмитрию
Донскому в 1369 г.»; «Елагины — от Вицентия, «из цесарского шляхетства»,
прибывшего в 1340 г. из Рима в Москву, к князю Симеону Гордому и так до
бесконечности.
Во времена ордынского ига (ига, читатель!) иностранцы идут на службу к
князьям побежденной, казалось бы, Руси. Идут «от влахов», «от латинов»,
«от ляхов», «от литвы», «от чехов», «от свеев», «из Угорской земли»,
«из немец», «из Царьграда» и, что поразительно, из Орды. Переселения
простых людей не отразились в «бархатных книгах», но несомненны. С XI
века в Киеве, Новгороде, Владимире известны поселения армян и грузин, в
Москве уже в XV веке были греческая и польская (Панская) слободы, в XVII
возникла грузинская, не переводились персияне, турки и «бухарцы» (в
седьмой главе «Евгения Онегина» последние названы среди постоянных
московских персонажей). В русские пределы сознательно переселялись целые
народы: между 1607 и 1657 переселились из китайской Джунгарии калмыки, а
после русско-турецкой войны 1806-12 переселились гагаузы. Вслед за
Столбовским миром с Швецией на русские земли устремляются «из-под
шведов» водь, ижора и карелы. И уже почти не в счет (а собственно,
почему?) сотни тысяч «чиркасов запорожских» — по-нынешнему, украинцев,
бежавших из Сечи на российские земли, начиная с 1638. Во все
достатистические века в Русь-Россию непрерывно вливались народные
струйки с Балкан, Кавказа, из Персии, придунайских земель, Крыма,
Бухары, германских княжеств, из Литвы, не говоря уже о славянских
землях. Имей мы родословные древа, уходящие вглубь веков, почти каждый
нашел бы кого-то из этих людей среди своих предков.
Появление, с XVIII века, статистики позволяет называть уже почти
точные цифры. Скажем, число немцев, въехавших в Россию при Екатерине II,
чуть не дотянуло до ста тысяч, а за 87 лет между 1828 и 1915 к нам
вселилось, ни много, ни мало, 4,2 млн иностранцев, больше всего из
Германии (1,5 млн чел.) и Австро-Венгрии (0,8 млн) . Вообразите число их
потомков сегодня! К началу Мировой войны 1914 года Россия была вторым,
после США, центром иммиграции в мире — впереди Канады, Аргентины,
Бразилии, Австралии. В Россию переселялись греки, румыны, албанцы
(«арнауты»), болгары, венгры, македонцы, хорваты, сербы, черногорцы,
галицийские и буковинские украинцы, чехи, словаки, все те же немцы,
китайцы, корейцы, персы, турецкие армяне, ассирийцы (айсоры), курды,
ближневосточные арабы-христиане. Вне статистики остались переселявшиеся в
собственно Россию жители ее окраин — прибалтийских и кавказских
губерний, русского Туркестана, Бухарского эмирата, Великого княжества
Финляндского, поляки и литовцы Царства Польского.
Россия всегда притягивала к себе людей, в пугало ее превратил
коммунизм. Он же сделал все, чтобы очернить ее прошлое. Общее
впечатление от русской истории, выносимое из школы (до сих пор!),
таково, что наш рядовой читатель легко верит любому мрачному вздору о
России. »
«О несчастном русском крестьянине и счастливом европейском»
Раз уж мы упомянули освобождение помещичьих крестьян в 1861 году,
проделайте такой опыт: спросите какого-нибудь знакомца, слывущего
эрудитом, какой процент тогдашнего населения России они составляли?
Потом второго, третьего. У меня хватило терпения опросить пятерых. Все
ответили, что, поскольку Россия была тогда крестьянской страной,
процентов 90. Они сказали так не потому, что где-то встречали подобную
цифру, а потому, что цифра была в духе того, что они вынесли из
советской школы. Правильный же ответ таков: около 28% (22,5 млн
освобожденных от крепостной зависимости на 80-миллионное население
страны). Во времена Павла I, всего шестью десятилетиями раньше, доля
крепостных была вдвое(!) выше. То есть, выход людей из крепостного
состояния происходил естественным ходом вещей и до реформы 1861 года,
притом исключительно быстро. Эти данные вы найдете во множестве книг,
например, в трудах авторитетного дореволюционного историка крестьянства
В.И.Семевского («Крестьянский вопрос в России…», т.1-2, СПб, 1888 и
др.). Но и тени представления об этом не встретишь сегодня даже у
начитанных людей.
Вспоминаю об этом всякий раз, читая очередные, но примерно
одинаковые, рассуждения об «исторических судьбах» нашего отечества (или
«этой страны»). Как я уже упоминал, нынешняя вспышка журнального
россиеведения почему-то чаще отмечена отрицательным знаком. Я уже привык
к неофитскому трепету, с которым очередной пылкий невежда клянет наше
несчастное, на его (ее) вкус, прошлое. Им всегда ненавистна «крепостная
Россия», «немытая Россия» (о «немытой» у меня будет отдельный и
подробный разговор), «деспотическая Россия», «нищая Россия» (при
внимательном же анализе написанного обычно видно, что ненавистна всякая
Россия), и почти из каждой строки торчит незнание предмета.
С придыханием пишут, например, как все хорошо и правильно
складывалось в благословенной Европе. Вспоминают продовольственную
программу XVII века, выдвинутую французским королем Генрихом IV: «хочу,
чтобы каждый мой крестьянин по воскресеньям имел суп, а в нем курицу».
Правда, прошло почти сто лет после этих замечательных слов, и
путешествующий по Франции Жан Лабрюйер записывает следующее:
«Всматриваясь в наши поля, мы видим, что они усеяны множеством каких-то
диких животных, самцов и самок, со смуглым, синевато-багровым цветом
кожи, перепачканных землею и совершенно сожженных солнцем… Они обладают
чем-то вроде членораздельной речи, и когда кто-либо из них поднимается
на ноги, у него оказывается человеческое лицо… На ночь они прячутся в
свои логовища, где живут черным хлебом, водой и кореньями» (цитату из
Лабрюйера приводит Ипполит Тэн в своей знаменитой книге «Старый
порядок», пер. с франц., СПб, 1907). За один 1715 год, пишет уже сам
Тэн, от голода (не от чумы!) вымерла треть крестьянского населения
Франции — и, заметьте, это не вызвало даже бунта против помещиков. В
маленькой Саксонии от голода 1772 года умерло 150 тысяч человек — и тоже
обошлось без потрясений.
Как беспощадно жестко была регламентирована жизнь крестьян Англии (уж
не говорю о батраках, работавших за репу и джин) вплоть до конца
Промышленной революции, я понял, побывав в музее крестьянского быта в
графстве Уилтшир. Зато, слышу я, английский крестьянин остался свободным
человеком. Скорее в теории. Он был намертво прикреплен к месту
рождения. Как раз в годы царствования нашего Петра I, главного русского
закрепостителя, в Англии свирепствовал Act of Settlement, по которому
никто не мог поселиться в другом приходе, кроме того, где родился, под
страхом «ареста и бесчестия». Для простой поездки в город крестьянину
требовалось письменное разрешение (license). Многие помещичьи поля еще в
XIX(!) веке охранялись с помощью ловушек и западней, которые могли
искалечить и убить голодного вора. Видно, были причины охранять.
По контрасту, в набросках к неоконченным «Мыслям на дороге» Пушкин
приводит слова своего дорожного попутчика — что характерно, англичанина
(пушкинисты выяснили, что звали этого человека Calvil Frankland и что он
жил в России в 1830-31 годах ): «Во всей России помещик, наложив оброк,
оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный, как и где он
хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000
верст вырабатывать себе деньгу… Я не знаю во всей Европе народа,
которому было бы дано более простору действовать». Министр уделов
Д.А.Гурьев писал в 1811 году о крестьянах: «Они занимаются всякого рода
торгами во всем государстве, вступают в частные и казенные подряды,
поставки и откупа, содержат заводы и фабрики, трактиры, постоялые дворы и
торговые бани, имеют речные суда».
С неожиданной стороны освещает уровень благополучия допетровской
России Юрий Крижанич, хорват и католик, проживший у нас во времена царя
Алексея Михайловича 17 лет (с 1659 по 1676) и увидевший значительную
часть тогдашнего русского государства — от его западных границ до
Тобольска. Крижанич осуждает — что бы вы думали? — расточительность
русского простолюдина: «Люди даже низшего сословия подбивают соболями
целые шапки и целые шубы…, а что можно выдумать нелепее того, что даже
черные люди и крестьяне носят рубахи, шитые золотом и жемчугом?… Шапки,
однорядки и воротники украшают нашивками и твезами [?], шариками,
завязками, шнурами из жемчуга, золота и шелка».
Про бояр и говорить нечего. «На то, что у нас [т.е. в России — А.Г.]
один боярин по необходимости должен тратить на свое платье, оделись бы в
указанных странах [Крижанич перед этим рассказывал, как одеваются в
Испании, Италии и Германии — странах, хорошо ему знакомых — А.Г.] трое
князей… На западных платьях более разумного покроя нет ни пуговиц,
сделанных из золота и драгоценных камней, ни золотых твезов, ни шелковых
и золотых кистей, ни жемчужных нашивок».
Но и это еще не все. «Следовало бы запретить простым людям
употреблять шелк, золотую пряжу и дорогие алые ткани, чтобы боярское
сословие отличалось от простых людей. Ибо никуда не гоже, чтобы
ничтожный писец ходил в одинаковом платье со знатным боярином… Такого
безобразия нет нигде в Европе. Наигоршие черные люди носят шелковые
платья. Их жен не отличить от первейших боярынь» (Юрий Крижанич,
«Политика», М., 1965). Любопытное «свидетельство о бедности», не так ли?
Кстати, Россия предстает в этих цитатах как страна, на триста лет
опередившая свое время. Именно наш век пришел к тому, что «писца» почти
во всем мире стало невозможно по одежде отличить от «боярина». В своем
веке Крижанич подобных вольностей не видел более нигде. В России каждый
одевался как желал и мог. Вне ее царил тоталитарно-сословный подход к
облачению людей. Венеция и некоторые другие города-республики, читаем у
Крижанича, «имеют законы об одежде, которые определяют, сколько денег
дозволено тратить людям боярского сословия на свою одежду».»
«К вопросу о «качестве жизни» наших предков
Затронув тему простого народа, давайте не обойдем трудный вопрос: по
каким критериям оценивать «качество жизни» наших предков, прежде всего
крестьян? Способны ли (и вправе ли) мы выносить какие-то суждения?
Помню, как удивил нас, студентов, старый профессор географии Николай
Леопольдович Корженевский, сказавший, что Афганистан, каким он его
застал в 1911 году, был страной неправдоподобно бедной и полностью
счастливой. Счастье человека не в богатстве. Среди богатых больше
самоубийств — от пресыщения ли, от особой «скуки богатых», здесь не
место разбирать. Человек счастлив, когда его жизнь осмысленна — тогда он
не ведает зависти, главной отравительницы счастья.
Как сравнивать жизнь крестьян, степень их благополучия и довольства в
несхожих странах? Если сравнивать их питание, то стол русского
крестьянина минимум до XIX века обильнее, чем в большинстве мест Европы
по причине невероятного биологического богатства России (о чем не ведают
сторонники «приполярной» теории). Бескрайние леса буквально кишели
зверем и птицей, в связи с чем иностранцы называли Русь «огромным
зверинцем» (Я.Рейтенфельс, «Сказания светлейшему герцогу тосканскому
Козьме III о Московии», М, 1906, стр.187. Охота в России, в отличие от
западноевропейских стран, не была привилегией высших классов, ей
предавались и самые простые люди. Реки, озера и пруды изобиловали рыбой.
Рыба, дичь, грибы и ягоды почти ничего не стоили. Такое было возможно
из-за слабой заселенности страны и «ничейности» почти всех лесов и вод —
в 70-е годы XVII века, когда Рейтенфельс жил в Москве, население
России, уже соединившейся с Малороссией, составляло всего лишь около 9
млн чел., вдвое меньше, чем во Франции.
«Склонность к веселостям народа здешней губернии, — сказано в
«Топографическом описании Владимирской губернии» за 1784 год, — весьма
видна из того, что они не только в торжествуемые ими праздники при
пляске и пении с своими родственниками и друзьями по целой неделе и
более (sic! — А.Г.) гуляют, но и в воскресные летние дни». Другое
описание, другая губерния, Тульская: «Поселяне сей губернии нрава
веселого и в обхождении своем любят шутки. Пение и пляски любимое ими
препровождение времени».
Народные игры (помните некрасовское: «в игре ее конный не словит…»?) и
развлечения часто отличала замысловатость, приготовления к ним
требовали времени. В Костромской губернии, «в больших вотчинах в
Сыропустное воскресенье сбирается съезд из нескольких сот (! — А.Г.)
лошадей» со всадниками, ряжеными в соломенные кафтаны и колпаки. Весьма
сложной (наездник прорывался к снежной крепости через препятствия),
требовавшей долгой подготовки была изображенная Суриковым забава «взятие
снежного городка».
Досуг в России весьма ценили и городские жители. У них эта черта
породила около трехсот лет назад такое сугубо русское явление, как
дачная жизнь — явление, постепенно ставшее воистину массовым. В Европе
нечто подобное стало появляться лишь в нашем веке, в последние
десятилетия. По контрасту, протестантская Европа и Америка между XVII
веком и Первой мировой войной отдыхали мало. Воскресенье посвящалось
церкви и домашним делам, отпуск был еще в диковину. Отдыхал тонкий слой
богатых бездельников. Реформация почти исключила отдых из программы
жизни, чем немало содействовала экономическому рывку Запада.
Т.о. только у нас крестьянское прошлое сознательно окарикатурено, в
том числе и наукой (правда, есть отрадные исключения, и среди них
монументальный труд Марины Громыко «Мир русской деревни», М. 1991).
Если сегодня высокий прирост населения отличает самые неблагополучные
страны, тогда все обстояло наоборот. Тем более интересную картину
приоткрывают цифры. А именно, что между 1500 и 1796 годами число только
великороссов выросло в 4 раза (с 5 до 20 млн), тогда как французов —
лишь на 80% (с 15,5 до 28 млн), а итальянцев — на 64% (с 11 до 17 млн).
Вот и делайте выводы.
Чтобы закончить с темой «качества жизни» в те далекие времена,
приведу три цитаты из записок иностранцев, сделанных в царствования
Федора Иоанновича, Бориса Годунова и Алексея Михайловича, о русских:
«Они ходят два или три раза в неделю в баню, которая служит им вместо
всяких лекарств» (Дж.Флетчер, «О государстве Русском», около 1589);
«Многие из Русских доживают до 80, 100, 120 лет, и только в старости
знакомы с болезнями» (Якоб Маржерет, «Состояние Российской державы… с
1590 по сентябрь 1606 г.»); «Многие [русские] доживают до глубокой
старости, не испытав никогда и никакой болезни. Там можно видеть
сохранивших всю силу семидесятилетних стариков, с такой крепостью в
мускулистых руках, что выносят работу вовсе не под силу нашим молодым
людям» (Августин Мейерберг, «Путешествие в Московию», около 1662).»
«Где уважали человеческую жизнь?
Все истекшее десятилетие, особенно перед вступлением нашей страны в
Совет Европы, московские газеты неоднократно возвращались к теме
смертной казни. Одни авторы незамысловато истолковывали требование о ее
отмене как попытку нескольких чересчур благополучных стран навязать
России свои понятия, предостерегали нас от такой беды и убеждали жить
своим умом. Другие (из тех, что волнуются как невесты при слове «Запад»)
писали еще более интересные вещи. Во-первых, они объясняли, что на
Западе издревле «утвердились гуманизм, представительная власть,
цивилизованный суд, вера в закон и нелицемерное уважение к человеческой
жизни» (цитата подлинная), а во-вторых, устало сомневались, что жители
современной России в силах даже сегодня усвоить подобную систему
ценностей, понять, как противоестественна смертная казнь. У россиян, де,
не тот менталитет (что бы это ни означало), у них за плечами вереница
кровавых деспотических веков, а представительная власть, цивилизованный
суд и т.д. (см. выше) им никогда не были ведомы.
Будете в Лондоне — купите билет на обзорную экскурсию по центру
города в открытом автобусе. Там есть наушники, можно слушать объяснения
по-русски. У Гайд-парка вы услышите, что там, где сейчас «уголок
оратора», находилось место казней. Казни были основным общественным
развлечением лондонской публики в течение многих веков. Главная виселица
имела какое-то (забыл) шутливое имя. Повод для юмора был налицо: там на
разновысоких балках была 21 петля, так что получалось подобие дерева.
То ли она напоминала англичанам елку с украшениями, то ли что-то еще. И
виселицы работали без простоев, недогрузки не было.
Некоторые вещи помогает понять искусство. Историки культуры давно
признали, что даже в античных, библейских и мифологических сюжетах
европейские художники отражали реалии окружавшей их жизни. И эти реалии
ужасают. Посмотрите на гравюры Дюрера и Кранаха. Вы увидите, что
гильотина существовала за два века(!) до Французской революции. Вы
увидите, как в глаз связанной жертве вкручивают какой-то коловорот, как
вытягивают кишки, навивая их на особый вал, как распяленного вверх
ногами человека распиливают пилой от промежности к голове, как с людей
заживо сдирают кожу. Сдирание кожи заживо — достаточно частый сюжет не
только графики, но и живописи Западной Европы, причем тщательность и
точность написанных маслом картин свидетельствует, во-первых, что
художники были знакомы с предметом не понаслышке, а во-вторых, о
неподдельном интересе к теме. Достаточно вспомнить голландского
живописца конца XV — начала XVI вв. Герарда Давида.
Московское издательство «Ad Marginem» выпустило в 1999 году перевод
работы современного французского историка Мишеля Фуко «Надзирать и
наказывать» (кстати, на обложке — очередное сдирание кожи), содержащей
немало цитат из предписаний по процедурам казней и публичных пыток в
разных европейских странах вплоть до середины прошлого века. Европейские
затейники употребили немало фантазии, чтобы сделать казни не только
предельно долгими и мучительными, но и зрелищными — одна из глав в книге
Фуко иронически озаглавлена «Блеск казни». Чтение не для
впечатлительных.
Гравюры Жака Калло с гирляндами и гроздьями повешенных на деревьях
людей — отражение не каких-то болезненных фантазий художника, а
подлинной жестокости нравов в Европе XVII века. Жестокость порождалась
постоянными опустошительными войнами западноевропейских держав уже после
Средних веков (которые были еще безжалостнее). Тридцатилетняя война в
XVII веке унесла половину населения Германии и то ли 60, то ли 80
процентов — историки спорят — населения ее южной части. Папа римский
даже временно разрешил многоженство, дабы восстановить народное
поголовье. Усмирение Кромвелем Ирландии, стоившее ей 5/6 ее населения, я
уже упоминал по другому поводу. Рядом с этим бледнеет сама святая
инквизиция. Что касается России, она на своей территории в
послеордынское время подобных кровопусканий не знала даже в Смуту. Более
того, Россия — почти единственная страна, не допустившая свойственного
позднему европейскому средневековью сожжения заживо тысяч людей. Видимо,
поэтому не знала она и такой необузанной свирепости нравов.
На протяжении почти всей истории человеческая жизнь стоила ничтожно
мало именно в Западной Европе. Сегодня без погружения в специальные
исследования даже трудно представить себе западноевропейскую традицию
жестокосердия во всей ее мрачности. Немецкий юрист и тюрьмовед
Николаус-Генрих Юлиус, обобщив английские законодательные акты за
несколько веков, подсчитал, что смертную казнь в них предусматривали
6789 статей. Еще в 1819 году в Англии оставалось 225 преступлений и
проступков, каравшихся виселицей. Когда врач английского посольства в
Петербурге писал в в своем дневнике в 1826 г., насколько он поражен тем,
что по следам восстания декабристов в России казнено всего пятеро
преступников, он наглядно отразил понятия своих соотечественников о
соразмерности преступления и кары. У нас, добавил он, по делу о военном
мятеже такого размаха было бы казнено, вероятно, тысячи три человек.
А теперь возьмем самый древний свод нашего права, «Русскую правду»,
он вообще не предусматривает смертную казнь! Из «Повести временных лет»
мы знаем, что Владимир Святославич пытался в 996 г. ввести смертную
казнь для разбойников. Сделал он это по совету византийских епископов
(т.е. по западному наущению), но вскоре был вынужден отказаться от
несвойственных Руси жестоких наказаний.
Впервые понятие смертной казни, которая предусматривалась за измену,
за кражу из церкви, поджог, конокрадство и троекратную кражу в посаде,
появляется у нас в XV веке в Псковской судной грамоте и в Уставной
Двинской грамоте. То есть, первые шесть веков нашей государственности
прошли без смертной казни, мы жили без нее дольше, чем с ней. Понятно и
то, почему данная новация проникла сперва в Двинск и Псков. Двинск — это
ныне принадлежащий Латвии Даугавпилс (а в промежутке — Динабург), да и
Псков неспроста имел немецкий вариант своего имени (Плескау). Оба города
были, благодаря соседству с землями Тевтонского и Ливонского Орденов, в
достаточной мере (гораздо теснее, чем даже Карпатская Русь или
Литовская Русь) связаны с Западной Европой. Новшество постепенно
привилось. Но даже в пору Смуты смертная казнь не стала, как кто-то
может подумать, привычной мерой наказания.
Одна из самых ужасных казней нашего Смутного времени — повешение
юного сына Марины Мнишек. Один новейший автор, не историк (не хочу
делать ему рекламу), называет это «неслыханным среди христианских
народов деянием». Не будь его познания так бедны, он мог припомнить хотя
бы историю гибели двух малолетних сыновей английского короля Эдварда
IV, тайно удавить которых, едва они осиротели, велел их родной дядя,
герцог Ричард Глостер. После этого он со спокойным сердцем короновался в
качестве Ричарда III, а два детских скелета были найдены в одном из
казематов Тауэра много времени спустя, в 1673 году.
Долгая поездка по Западной Европе в 1697-98 гг. произвела на
внимательного и пытливого Петра Первого большое впечатление. Среди
прочего он решил, что материальный прогресс посещенных им стран как-то
связан с жестокостью тамошних законов и нравов и сделал соответствующие
выводы. Совсем не случайность, что самая жестокая и массовая казнь его
царствования, казнь 201 мятежного стрельца 30 сентября 1698 года в
Москве, произошла сразу после возвращения молодого царя из его
17-месячной европейской поездки (Любопытно, что не встретив в Голландии,
Англии и германских княжествах бань, он решил что бани — такое же
препятствие на пути прогресса (слово «прогресс» проникло в русский язык
именно при Петре), как и излишняя мягкость нравов. Впрочем, начатая им
было борьба с банями успеха не имела и сравнительно быстро сошла на
нет).
Однако бороться с устоявшейся системой ценностей — дело чрезвычайно
трудное. По числу казней Россия даже при Петре и отдаленно не
приблизилась к странам, служивших ему идеалом, а после его смерти это
число и вовсе пошло на убыль. Середина XVIII века отмечена фактической
отменой смертной казни. В 1764 году оказалось, что некому исполнить
приговор в отношении Василия Мировича. За двадцать лет без казней
профессия палача попросту исчезла. Не сильно процветала эта профессия в
России и в дальнейшем.
Чтобы изменить русское отношение к смертной казни потребовалось
полное крушение всего внутреннего мира нашего народа, произошедшее в
1917 году. Вдобавок всемирная культурная революция ХХ века в
значительной мере стерла различия между народами вообще. И все же не
могу себе представить, чтобы у нас привились «музеи пыток», столь
популярные во многих европейских городах. Само пристрастие к таким
музеям что-то приоткрывает нам в западноевропейском характере,
сформированном всей историей Запада.» Источник
В Мой Мир
Обсудить на нашем форуме
 |